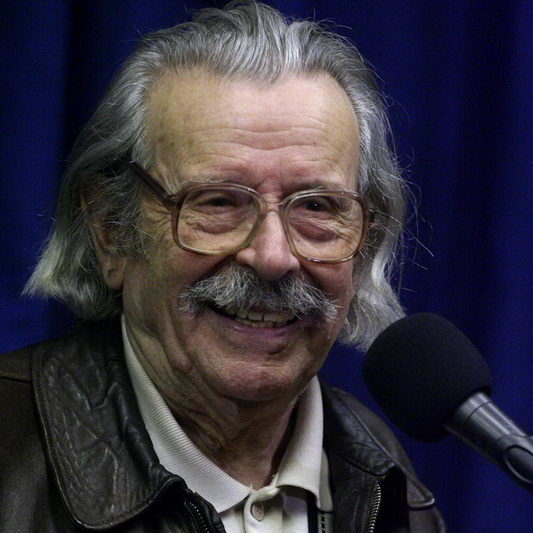Почитай, всю жизнь нашу казалось привычным и нормальным — слово поэта могло достичь сердец людских только из рупоров партийного радио. Любая публикация — монополия власти. Мимо цензуры не проскочишь. А проскочишь, так далеко — в Заполярье, в Магадан… Андерсеновский мальчик у нас не мог бы крикнуть, что король голый. После “ко…” раздался бы выстрел. И всё же хоть и редко, в страхе, но люди что-то тайком читали, слушали, переписывали. Может быть, первой ласточкой “самиздата” — или одной из первых — было моё стихотворение “Еврей-священник”.
Заметная страничка жизни. Летом шестьдесят первого года соседка рассказала мне об удивительной светлой личности — священнике подмосковного села, по национальности еврее.
— Это был Мень? — угадала подруга.
— Задолго до Меня. Не ищите портретного сходства с реальной личностью. Стихотворение шире одной конкретной судьбы. Сказали: есть такой молодой батюшка, с высшим техническим образованием, еврей. Я и не поехал знакомиться, мне это только помешало бы. Весь сюжет выстроился во мне сразу, будто сам я прошёл этот зигзаг судьбы. Похоже, в жизни так и было, как в стихе. С отличием закончил парень институт. Все однокашники уже на должности, а он один пороги обивает. Почему?
Он был еврей — мишень для шутки грубой,
Ходившей в те неважные года.
Считался инвалидом пятой группы,
Писал в графе “национальность”: “Да”.
И решил он обмануть судьбу, стать уважаемым и обеспеченным человеком вопреки решению начальства. Вверил себя церкви.
Крещённый без бюрократизма, быстро,
Он встал омытым от мирских обид,
Евреем он остался для министра,
Но русским счёл его митрополит.
С блеском кончает семинарию, получает прекрасный приход, живи в своё удовольствие. Нет, по-людски не может жить еврей. Ловкач, хитрец всерьёз пропитался истинным духом христианства, обратился в пастыря, подвижника.
И вот стоит он, тощ и бескорыстен,
И громом льётся из худой груди
На прихожан поток забытых истин,
Таких, как “не убий”, “не укради”.
И люди его слышат. Паства платит благодарностью и доверием. А начальство реагирует на его труды по-своему…
Еврей мораль читает на амвоне,
Из душ заблудших выметая сор…
Падение преступности в районе —
Себе а заслугу ставит прокурор.
Понёс Львовскому, у него Гердт. Два раза читать заставили, дошло. Гердт показал, как он вползает по голой стене, стихотворение его возвысило. Сейчас вспоминаю, что он действительно поднялся метра на два.
Со Слуцким к этому времени мы виделись уже редко, но встретившись, часок погуляли. Прочёл ему “Священника”, и ещё новую вещь — “Кита”. Полчаса, с обычным для него блеском, он показывал мне, чем одно стихотворение хуже другого. “Ситцевая ткань “Священника” — сказал он. В разговорном, трамвайном тоне ему послышалась, видимо, эстрадно-фельетонная дешёвка. Но когда я выразил робкую надежду, что стихотворение может быть замечено, Слуцкий медленно и важно кивнул. Ревнив был трибун, всё ему казалось, что кто-то ступил на его территорию.
Свободно читал в компаниях, знакомых и не очень. Несколько экземпляров выдал из дому, но без подписи, даже без буквочки. Хотелось, чтобы знали самый стих, а кто там автор — не ваше дело: тогда за такие шутки можно было загреметь далеко.
Так и пошло без подписи, тюкали на своих машинках, переписывали от руки. И такой тираж, заметил Сарнов, мог бы потягаться с ротационными машинами комбината “Правды”. Чудо, что ленивый наш читатель переписывал ручкой длинное и небезопасное сочинение. Более того, вернулась с гастролей из Парижа Кира Смирнова, при мне отпустила все струны знаменитой своей гитары, засунула в неё руку и вытащила газету: в Париже на русском напечатано “неизвестно кем написанное стихотворение, которое ходит по рукам в России”, — мой “Священник”.
Кому только не приписывали его. Слуцкому, потом Бродскому, будто им своей славы мало. Воистину: имущему ещё даётся, а у неимущего и то отнимется.
— В чём же секрет такого успеха? Только ли в факте, о котором вы рассказали? В бойком стихе? Тут есть секрет, не могу уловить… — снова призналась моя подруга.
— Драматургия поэзии. Не самой истории, а именно стиха. Стих, а с ним и читатель относится к герою с добродушной насмешкой. Ай плут, ну ловок, обманул судьбу. Словом, хитрый жулик… И на наших глазах он вырастает в фигуру духовную. Бессребреник, подвижник, над которым вы только что смеялись. И стыдно, что смеялись… Тут просишь ручку и лист бумаги: надо переписать, показать своим, дома.
Вернулся я к этой теме аж через тридцать лет после стихов о священнике. К слову пришлось. Бродил в подмосковном лесу с другом, драматургом Полонским. Помните — “Доживём до понедельника”, “Ключ без права передачи”? Показывал ему, как разжечь костёр под дождём, как найти дорогу к дому. Беседуем, конечно.
Поведал я ему одну байку фронтовую.
— Напечатано? Даже не записано? Немедленно запиши! — потребовал Полонский.
Я последовал совету. Знаете, пока байка не записана, дрыхнет она тихо на нарах памяти, до подходящего разговора. А напечатанное на машинке сочинение — это вещь, произведение — просится на свет, к читателю.
Сарнов отнёс в “Огонёк”, где он публиковался часто. Там читали, склонялись туда, сюда… Нет. Рассказ, правда, взяли (домой кто-то взял, себе), но не напечатали. Сарнов и в Ленинград возил. Мимо. А скромный еженедельник “Экран и сцена” сразу же напечатал.
Воспроизводится по книге: Евгений Агранович. Избранное. Москва, Вагант, 2001